Телец
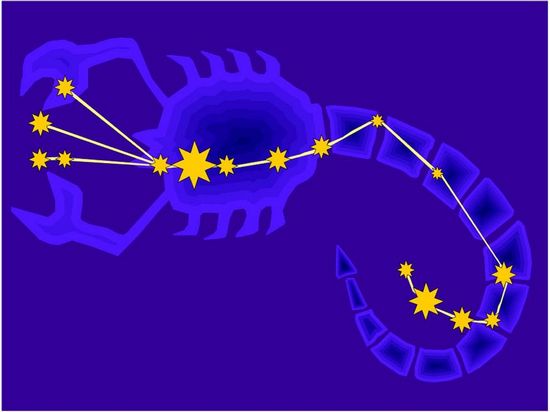
Режиссер Александр Сокуров завершил работу над собственным новым фильмом «Телец»: в течение двух октябрьских недель в финской студии SES-Sound была произведена перезапись фонограммы в совокупности Dolby digital, напечатаны копии, готова видеоверсия, более полная, как и при «Молоха», чем экранная.
Фильм, информация о котором шепетильно дозировалась режиссером, поставлен по сценарию Юрия Арабова «Приближение к раю». Определяя на протяжении съемок вероятную аннотацию к картине, Сокуров ограничивался фразой: «Это повествование о двух днях 1922 года – двух днях из истории России».
Продюсер Виктор Сергеев был немногим более конкретен, высказываясь в том смысле, что «Приближение к раю» – еще одно, по окончании «Молоха», размышление о трагедии и природе власти; продюсера возможно было осознать так, что это будет картина еще более сильная, чем прошлая, потому, что она коснется конкретно отечественного прошлого. С началом экспедиции в Горки Ленинские секрет хранить стало тяжело – и, не обращая внимания на то, что на протяжении съемок главного храбреца именовали не в противном случае как Пациент, а, скажем, человека, в один раз его навещающего, – Визитёр, – общественность уже появилась в курсе: артист Леонид Мозговой играется вождя мирового пролетариата, а его визитер – будущий папа народов.
Кроме того по окончании показа фильма (в так называемой технической копии) группе и некоторым питерским кинокритикам, Сокуров просил не делать упора на том, кто же конкретно действует в его картине. Но портретное сходство, речевые изюминки персонажей, и то, что Больного именуют Володей две дамы, одна из которых Надя, а вторая – Маша, плюс наличие в картине иных исторических лиц, – показывают невозможность следования просьбе режиссера.
В случае если сделать немыслимое допущение и высказать предположение, что за подобный сюжет взялся другой постановщик, это был бы физиологический очерк как иллюстрация истории партии: перед нами определенный человек, у которого отнимается добрая половина тела – и забрана сообщение с внешним миром. Ясно, что при Сокурова это высокая катастрофа-гротеск, имеющая в собственной сердцевине претендовавшего на переделку вселенной человека только в качестве броского «опытного образца». Как эта добрая половина тела, включая мозг (здоровье последнего в ц е л о м также недвусмысленно подвергается сомнению), – здорова? (Необходимо подчеркнуть попутно новую грань в изучении Сокуровым приключений тела: в различных его фильмах действовали больные, здоровые, умираюшие, погибшие, возвратившиеся с того света/бесплотные, чистые духи… – сейчас вот добрая половина, здоровье которой, окончательное и бесповоротное, обещано врачом в том случае, если Больной сможет умножить семнадцать на двадцать два; Больной неимеетвозможности.)
Потом. Как данный уже недочеловек, в гордыне и провиденьи собственном донимающий жену: «как, вы планируете жить по окончании меня?», пробующий ответить на гамлетовские вопросы, отягощенные не родной местью, а – кровью тысяч людей, подвергнутых насилию по его же указу, – как данный калека (физически) и урод (морально) способен осознать, что именно зависит сейчас от него – и что именно зависело прежде? Но, «отягощенные» – для нас, ему же все мало думается жестокости, все мало… вслух жаждет древнего масштаба трагедии… в недочёте – не в избытке! – насилия видит корень зла и неточность собственную, исправления которой не знает, а чует лишь выход: как говорит, источник насилия не может быть бессилен сам – это теорема, а человек, что неимеетвозможности убить вторых, обязан убить себя.
Как же в этом ужасном средоточии слабохарактерного (другими словами, логичного, верного, естественного – как, допустим, кошмара от безграмотности участников политического бюро) и больного (как мерное покачивание всем телом, характерное для жителей психушки), как за ухмылкой кривого инсультного рта и полузакрытыми, как у подслеповатой курицы, глазами, – способно сохраниться и быть замечено вторыми что-то человеческое, с чем возможно общаться? И в чем, в итоге, обстоятельство нынешних корчей его мозга и туловища, дополнительно угнетенных полной слабостью – состоянием, в то время, когда ни одна живая душа неимеетвозможности оказать помощь?
Но оказать помощь возможно – лишь телу. Центральный персонаж картины как бы кроме того и не основной ее храбрец: какой храбрец в периоде полураспада? Он, не вызывающий никакой жалости, – не действует, он как бы недействителен.
Ограничение, поражение пришло от заболевания, слабости – и от коварного нового тирана, что уже низок так, что выбрал сопернику медленное умирание. А дабы не произошло чего – очертил круг, расставил собственных людей: не только мы замечаем за Больным, но надзирают за своим подопечным все в доме и окрест (опять-таки, пожилой сокуровский мотив: человек в каске выглядывал из-за укрытия еще в «И ничего больше» и в «Скорбном бесчувствии»; в «Молохе» за жителями замка на горе педантично следили для порядка) – надзирают, что именуется, с чувством и усердием.
Вот эта зависимость, эта обреченность на несамостоятельность, эта несвобода – во всех смыслах – и делается смыслом фильма. В котором все – клетка.
Особенно фантастичен Паколи – основной приставленный к телу, что за ним и ходит, и наблюдает: тюремщик, слуга и нянька при барине в один момент, да таковой, что нереально не отыскать в памяти всех дядек в русской ее истории и литературе. Момент, в то время, когда властитель и этот раб обувается по окончании того, как купал подопечного в ванне, приговаривая: «Обжег ноги», – и отбрасывает сапоги, завидев, что иные, «младшие», халдеи вот-вот уронят драгоценное тело, – дабы броситься его подхватить и нести, – незабываем. Потому что, во-первых, мы уже знаем мечту вождя о том, дабы все мужики куда-то делись.
И во-вторых, по причине того, что чувственность, с которой снят данный, как и многие другие, эпизод, дает чувство практически осязаемости происходящего. Как этого получает Сокуров, остается тайной. Особенно тут, где изображение напоминает то, которое имел возможность бы взять снимающий исподтишка на любительскую камеру чекист (в отличие от фотографа в кадре, не застуканный Паколи) – выполняя ли приказ, по личной ли инициативе от скуки: какие-то светло синий-зеленые, превращающие все в водоросли, тона, какая-то временами неканоническая, мягко говоря, композиция… Сложное, «многоступенчатое» остранение (тут перечислены не все приемы) нужно как раз вследствие того что не сатира пишется, не анекдот исторический рассказывается, не случай из судьбы, не краткий курс с обратным знаком.
Повествование, полное сгущающегося вздора, неосуществимых в постижении тайных, мучительного наблюдения за телом без духа, за вспышками мысли, которая бьется как-то сама по себе, движется столь быстро, что не успеваешь понять все происходящее – лишь заметить и услышать. И в то время, когда человек в инвалидной коляске внезапно нечаянно кинут один под предгрозовым небом, случается тебе кроме того выдохнуть – в детской какой-то высшей успокоенности.
И снова заметить – тонкую красную линию с рваными краями на титрах: как ножом по горлу жертвенного животного.
Все тот же Молох.



















